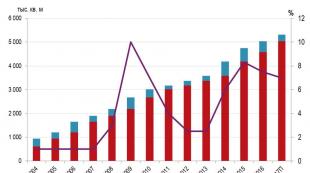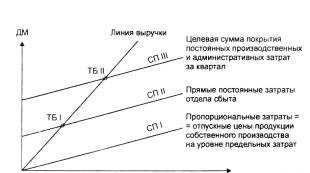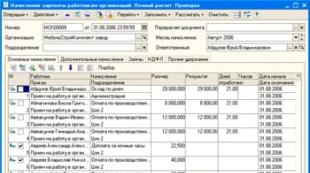Тема «Путь Раскольникова к преступлению»
Идеологическая основа романа: в романе отражены идеи, которые «носились» в воздухе (революционно-демократические о насильственном преобразовании общества; бонапартистские - теория сильной личности, для достижения своей цели все средства хороши, когда вершатся великие дела, кто-то обязательно должен погибнуть).
Работа с текстом (гл. 1 - 6)
Задание. Выписать ситуации, слова, состояния, мысли, приведшие Раскольникова к мысли о возможности и необходимости преступления.
1. «Молодой человек чувствовал какое-то болезненное и трусливое ощущение, которого стыдился и от которого морщился. Он был кругом должен хозяйке...»
2. «Он был в раздражительном и напряженном состоянии, похожем на ипохондрию».
3. «Он был задавлен бедностью... Насущными делами своими он совсем перестал и не хотел заниматься...»
Задание. Нарисовать дом, в котором мог проживать Раскольников.
(Вспомнить Булгакова: «дворницкие исчезли, появились кражи».)
4. Идет к старухе на пробу. «На какую грязь способно, однако, мое сердце! Главное: грязно, пакостно, гадко, гадко!..»
5. В распивочной (пьяные, компания с одною девкою и гармонью), песня:
Целый год жену ласкал,
целый год жену ласкал,
По Подъяческой пошел,
свою прежнюю нашел...
6. Разговор с Мармеладовым: бедность не порок, но нищета - порок.
7. «Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти!»
8. Рассказывает историю Сони (проживала по желтому билету).
Раскольникова поражает то, что семья живет на деньги, которые приносит Соня. Лицемерие общества (Соня не может жить с родными, а родные пользуются ее «услугами».)
9. «В это время целая партия пьяных вошла в распивочную, и раздались у входа звуки шарманки и детский надтреснувший голосок, певший «Хуторок». (Взрослые зарабатывают на нищих детях.)
10. Раскольников дома у Мармеладовых. Угнетающее впечатление.
11. «Письмо матери его измучило. (...) Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жертву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? Так ли? Под силу ли? В пользу ли? Разумно ли?».
12. «Вчерашняя мысль опять пронеслась в его голове... он предчувствовал, что она непременно «пронесется», и уже ждал ее... но... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грязном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг сам осознал это...»
13. На улице встречает пьяную, оскорбленную, обманутую девушку лет пятнадцати-шестнадцати. Спасает ее от плотного, жирного господина. Озлобляется. Почему? Рассуждает о «проценте»: «А что, коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?..»
Нужно что-то делать: индивидуальный бунт, протест героя.
14. Останавливает Раскольникова его мысль о Разумихине и страшный сон (мужики забили лошадь): «Боже!.. неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове... буду скользить в липкой, теплой крови... красть, дрожать... Ведь я же все равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю... Господи! Покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой проклятой... мечты моей!». Отвращение к убийству.
Казалось бы, от-решился, но идея сильней: случайный путь домой по необычной дороге - по Сенной - стал роковым.
15. Встречает Лизавету, узнает, что в тот час ее не будет дома.
16. Заходит в трактир, «странная мысль наклевывалась в его голове... и очень его занимала».
17. Слышит разговор офицера и студента об Алене Ивановне: «Да что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, таракана...»
«...А скажи ты мне: убьешь ты сам старуху или нет?»
«Разумеется, нет. Я для справедливости...»
Раскольников слышит в этом какое-то предопределение, указание, решается на убийство.
Анализ пути героя к преступлению.
Домашнее задание. Выписать «вечные вопросы» (главы 1 - 6).
Тема «Опровержение теории Раскольникова»
Работа с текстом
1. Оценка поступка
Необходимые заметки:
Дом Капернаумова, в котором живет Соня (Капернаум - город, в котором проповедовал Христос).
Лизавета в черновиках Достоевского беременна, 8 месяцев, страшная истина: человек, решившись на убийство, остановиться не может. Если бы Раскольников убил Лизавету с ребенком (!), сошел бы с ума.
Во время бунта - общественного или личного - ВСЕГДА погибают невинные люди. Автор против насилия и бунта; противостояние теории бонапартизма.
Сделать вывод: какой поступок совершает Раскольников и каков внутренний (философский, исторический, мировоззренческий) подтексты поступка?
2. Состояние Раскольникова
Сны, слова понимаются им только в контексте преступления. (См. табл. 1.)
Раскольникова мучает страх. Потеря теории бонапартизма. Почему не мучает совесть? Нет веры в Бога!
Раскольников испытывает Соню (ч. 4, гл. 4):
«Знаю я, как вы в шесть часов пошли...»;
«Катерина Ивановна вас чуть не била...»;
«А с вами что будет?..»;
«Катерина Ивановна в чахотке злой, она скоро умрет...»;
«А коли вы теперь заболеете...»;
«Дети всей гурьбой на улицу пойдут...»;
«С Полечкой, наверно, то же самое будет...» (Вспомнить стихотворение Некрасова «Еду ли ночью по улице темной...»).
Соня - что необычного в образе?
Она не характерна для публичного дома (худенькая, бледная, слабая здоровьем, думающая, мучающаяся). От этой грязи ее спасает только вера, она читает Евангелие («Воскрешение Лазаря» - Раскольникову).
Правда Раскольникова и правда Сони (ч. 5, гл. 4). (См. табл. 2.)
Вывод: у Раскольникова еще нет осознания вины, но мы понимаем, что он это сделал, так как «озлился», захотел проверить «тварь ли я дрожащая». Раскольников теряет себя!
3. Их воскресила любовь
«Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого...» (Сравнить с биографией Достоевского, что для него значила вторая жена Анна Григорьевна.)
Анализ эпилога.
Итог урока. Обратить внимание на «движение» души Раскольникова до сцены в эпилоге: «...их воскресила любовь».
Ольга КОВАЛЕВА, учитель русского языка и литературы средней школы №70 Тюмени
Что может толкнуть человека на преступление, что может заставить его пролить кровь другого, такого же, как и он сам, существа, лишить его жизни? Патологическая жестокость, стремление нажиться за счет ближнего своего, спрятать концы какого-либо еще более страшного злодеяния? Наверное, причин здесь столько же, сколько и конкретных случаев, но каковы бы ни были смягчающие обстоятельства, преступление все равно всегда остается преступлением, и совершивший его в наших глазах не такой, как все, ибо он переступил через последнюю черту, вторгся в ту тайну, которая человеку неподвластна от природы, - тайну жизни и смерти…
Итак, перед нами роман, главный герой которого - убийца. В произведении есть, казалось бы, все признаки детективного жанра: преступник и две его жертвы, сыщик, кропотливо ведущий расследование, наконец, суд. И все-таки "Преступление и наказание" - отнюдь не детектив, и Достоевский с самого начала лишает нас удовольствия поломать голову над загадкой: кто убил. Ответ на этот вопрос у нас есть: убийца - бывший студент Родион Романович Раскольников. Зато нет ответов на многие другие вопросы. К размышлению над ними нас и приглашает писатель.
Что же привело Раскольникова к преступлению? Бедность? Отчасти, конечно, и бедность, но главным образом, по-моему, не она. Живет же ведь Разумихин, приятель главного героя, зарабатывая на хлеб насущный уроками, случайными переводами. До поры до времени так жил и Раскольников - и худо-бедно сводил концы с концами. Но с некоторых пор такое существование стало для него невозможным. Почему? Мне кажется, причиной всему теория Раскольникова. Она возникает в романе как единство сердечной муки и возбужденной, ищущей мысли. И окружающая действительность со всеми ее кричащими противоречиями, и характер главного героя, и его взгляд на мироздание - все отразилось в этой теории. Пытаясь осмыслить современный ему мир, Раскольников с болью видит, что здесь на каждом шагу попирается гордость человека, унижается его достоинство, здесь "кровь льется, как шампанское, здесь цена человеческой личности упала до минимума. Именно в этих условиях и ищет он доказательств для оправдания "убийства по совести". Ищет - и, как ему кажется, находит.
В своей теории Раскольников делит все человечество на две категории: людей обыкновенных, "тварей дрожащих", составляющих большинство и вынужденных безропотно подчиняться силе, и на необыкновенных, особенных людей, для которых законы не писаны, которым "все дозволено". Это - Наполеоны. Да, они проливают кровь (чужую, разумеется, не свою!), они "переступают" через законы, обязательства, через сотни, тысячи чужих жизней, но ведь оправдывает их то, рассуждает Раскольников, что действуют Наполеоны во имя будущего блага. Разве не стоит оно хотя бы и такой высокой цены?
Из этой теории с неизбежностью вытекает вопрос, который приводит к трагедии самого Раскольникова. К какой же категории относится он сам? "Тварь я дрожащая или право имею?" - этот вопрос неотступно терзает его сознание. Так созревает бунт Раскольникова, так начинается его путь к преступлению.
Раскольников хочет проверить себя, доказать, что и он вполне годится в Наполеоны, но сама натура главного героя вступает в противоречие с его чудовищной теорией. У меня, например, уже с первых страниц романа сложилось твердое убеждение, что Раскольников - это человек, воспринимающий чужую боль гораздо острее, чем свою собственную. Рискуя жизнью, он спасает из огня детей, отдает последние деньги, стремясь спасти от преследований франта пьяную девочку на бульваре, помогает Мармеладовым. Чего стоит знаменитый сон героя про лошаденку, забиваемую пьяным хозяином. Разве может человеку холодному и эгоистичному, безразличному к чужой боли и беде, присниться такое? Раскольников еще до пристава вступает в неразрешимую борьбу с самим собой, со своей человеческой сущностью. Он и на само-то преступление идет как на казнь, как на Голгофу…
Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то что сам носил столько собственного ужаса и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении его заступиться за Соню. Кроме того, у него было в виду и страшно тревожило его, особенно минутами, предстоящее свидание с Соней: он должен был
объявить ей, кто убил Лизавету, и предчувствовал себе страшное мучение, и точно отмахивался от него руками. И потому, когда он воскликнул, выходя от Катерины Ивановны: «Ну, что вы скажете теперь, Софья Семеновна?», то, очевидно, находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным. Но странно случилось с ним. Когда он дошел до квартиры Капернаумова, то почувствовал в себе внезапное обессиление и страх. В раздумье остановился он перед дверью с странным вопросом: «Надо ли сказывать, кто убил Лизавету?» Вопрос был странный, потому что он вдруг, в то же время, почувствовал, что не только нельзя не сказать, но даже и отдалить эту минуту, хотя на время, невозможно. Он еще не знал, почему невозможно; он только почувствовал
это, и это мучительное сознание своего бессилия перед необходимостию почти придавило его. Чтоб уже не рассуждать и не мучиться, он быстро отворил дверь и с порога посмотрел на Соню. Она сидела, облокотясь на столик и закрыв лицо руками, но, увидев Раскольникова, поскорей встала и пошла к нему навстречу, точно ждала его.
Что бы со мной без вас-то было! быстро проговорила она, сойдясь с ним среди комнаты. Очевидно, ей только это и хотелось поскорей сказать ему. Затем и ждала.
Раскольников прошел к столу и сел на стул, с которого она только что встала. Она стала перед ним в двух шагах, точь-в-точь как вчера.
Что, Соня? сказал он и вдруг почувствовал, что голос его дрожит, ведь всё дело-то упиралось на «общественное положение и сопричастные тому привычки». Поняли вы давеча это?
Страдание выразилось в лице ее.
Только не говорите со мной как вчера! прервала она его. Пожалуйста, уж не начинайте. И так мучений довольно...
Она поскорей улыбнулась, испугавшись, что, может быть, ему не понравится упрек.
Я сглупа-то оттудова ушла. Что там теперь? Сейчас было хотела идти, да всё думала, что вот... вы зайдете.
Он рассказал ей, что Амалия Ивановна гонит их с квартиры и что Катерина Ивановна побежала куда-то «правды искать».
Ах, боже мой! вскинулась Соня, пойдемте поскорее...
И она схватила свою мантильку.
Вечно одно и то же! вскричал раздражительно Раскольников. У вас только и в мыслях, что они! Побудьте со мной.
А... Катерина Ивановна?
А Катерина Ивановна, уж конечно, вас не минует, зайдет к вам сама, коли уж выбежала из дому, брюзгливо прибавил он. Коли вас не застанет, ведь вы же останетесь виноваты...
Соня в мучительной нерешимости присела на стул. Раскольников молчал, глядя в землю и что-то обдумывая.
Положим, Лужин теперь не захотел, начал он, не взглядывая на Соню. Ну а если б он захотел или как-нибудь в расчеты входило, ведь он бы упрятал вас в острог-то, не случись тут меня да Лебезятникова! А?
Да, сказала она слабым голосом, да! повторила она, рассеянно и в тревоге.
А ведь я и действительно мог не случиться! А Лебезятников, тот уже совсем случайно подвернулся.
Соня молчала.
Ну а если б в острог, что тогда? Помните, что я вчера говорил?
Она опять не ответила. Тот переждал.
А я думал, вы опять закричите: «Ах, не говорите, перестаньте!» засмеялся Раскольников, но как-то с натугой. Что ж, опять молчание? спросил он через минуту. Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать? Вот мне именно интересно было бы узнать, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», как говорит Лебезятников. (Он как будто начинал путаться). Нет, в самом деле, я серьезно. Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, в придачу (так как вы себя ни за что считаете, так в придачу
). Полечка также... потому ей та же дорога. Ну-с; так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? То как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю.
Соня с беспокойством на него посмотрела: ей что-то особенное послышалось в этой нетвердой и к чему-то издалека подходящей речи.
Я уже предчувствовала, что вы что-нибудь такое спросите, сказала она, пытливо смотря на него.
Хорошо, пусть; но, однако, как же бы решить-то?
Зачем вы спрашиваете, чему быть невозможно? с отвращением сказала Соня.
Стало быть, лучше Лужину жить и делать мерзости! Вы и этого решить не осмелились?
Да ведь я божьего промысла знать не могу... И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому жить, кому не жить?
Уж как божий промысл замешается, так уж тут ничего не поделаешь, угрюмо проворчал Раскольников.
Говорите лучше прямо, чего вам надобно! вскричала с страданием Соня, вы опять на что-то наводите... Неужели вы только затем, чтобы мучить, пришли!
Она не выдержала и вдруг горько заплакала. В мрачной тоске смотрел он на нее. Прошло минут пять.
А ведь ты права, Соня, тихо проговорил он наконец. Он вдруг переменился; выделанно-нахальный и бессильно-вызывающий тон его исчез. Даже голос вдруг ослабел. Сам же я тебе сказал вчера, что не прощения приду просить, а почти тем вот и начал, что прощения прошу... Это я про Лужина и промысл для себя говорил... Я это прощения просил, Соня...
Он хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной улыбке. Он склонил голову и закрыл руками лицо.
И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу. Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та
минута пришла.
Опять он закрыл руками лицо и склонил вниз голову. Вдруг он побледнел, встал со стула, посмотрел на Соню и, ничего не выговорив, пересел машинально на ее постель.
Эта минута была ужасно похожа, в его ощущении, на ту, когда он стоял за старухой, уже высвободив из петли топор, и почувствовал, что уже «ни мгновения нельзя было терять более».
Что с вами? спросила Соня, ужасно оробевшая.
Он ничего не мог выговорить. Он совсем, совсем не так предполагал объявить
и сам не понимал того, что теперь с ним делалось. Она тихо подошла к нему, села на постель подле и ждала, не сводя с него глаз. Сердце ее стучало и замирало. Стало невыносимо: он обернул к ней мертво-бледное лицо свое; губы его бессильно кривились, усиливаясь что-то выговорить. Ужас прошел по сердцу Сони.
Что с вами? повторила она, слегка от него отстраняясь.
Ничего, Соня. Не пугайся... Вздор! Право, если рассудить, вздор, бормотал он с видом себя не помнящего человека в бреду. Зачем только тебя-то я пришел мучить? прибавил он вдруг, смотря на нее. Право. Зачем? Я всё задаю себе этот вопрос, Соня...
Он, может быть, и задавал себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая беспрерывную дрожь во всем своем теле.
Ох, как вы мучаетесь! с страданием произнесла она, вглядываясь в него.
Всё вздор!.. Вот что, Соня (он вдруг отчего-то улыбнулся, как-то бледно и бессильно, секунды на две), помнишь ты, что я вчера хотел тебе сказать?
Соня беспокойно ждала.
Я сказал, уходя, что, может быть, прощаюсь с тобой навсегда, но что если приду сегодня, то скажу тебе... кто убил Лизавету.
Она вдруг задрожала всем телом.
Ну так вот, я и пришел сказать.
Так вы это в самом деле вчера... с трудом прошептала она, почему ж вы знаете? быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись.
Соня начала дышать с трудом. Лицо становилось всё бледнее и бледнее.
Знаю.
Она помолчала с минуту.
Нашли, что ли, его?
робко спросила она.
Нет, не нашли.
Так как же вы про это
знаете? опять чуть слышно спросила она, и опять почти после минутного молчания.
Он обернулся к ней и пристально-пристально посмотрел на нее.
Угадай, проговорил он с прежнею искривленною и бессильною улыбкой.
Точно конвульсии пробежали по всему ее телу.
Да вы... меня... что же вы меня так... пугаете? проговорила она, улыбаясь как ребенок.
Стало быть, я с ним
приятель большой... коли знаю, продолжал Раскольников, неотступно продолжая смотреть в ее лицо, точно уже был не в силах отвести глаз, он Лизавету эту... убить не хотел... Он ее... убил нечаянно... Он старуху убить хотел... когда она была одна... и пришел... А тут вошла Лизавета... Он тут... и ее убил.
Прошла еще ужасная минута. Оба всё глядели друг на друга.
Так не можешь угадать-то? спросил он вдруг, с тем ощущением, как бы бросался вниз с колокольни.
Н-нет, чуть слышно прошептала Соня.
Погляди-ка хорошенько.
И как только он сказал это, опять одно прежнее, знакомое ощущение оледенило вдруг его душу: он смотрел на нее и вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы. Он ярко запомнил выражение лица Лизаветы, когда он приближался к ней тогда с топором, а она отходила от него к стене, выставив вперед руку, с совершенно детским испугом в лице, точь-в-точь как маленькие дети, когда они вдруг начинают чего-нибудь пугаться, смотрят неподвижно и беспокойно на пугающий их предмет, отстраняются назад и, протягивая вперед ручонку, готовятся заплакать. Почти то же самое случилось теперь и с Соней: так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него несколько времени и вдруг, выставив вперед левую руку, слегка, чуть-чуть, уперлась ему пальцами в грудь и медленно стала подниматься с кровати, всё более и более от него отстраняясь, и всё неподвижнее становился ее взгляд на него. Ужас ее вдруг сообщился и ему: точно такой же испуг показался и в его лице, точно так же и он стал смотреть на нее, и почти даже с тою же детскою
улыбкой.
Угадала? прошептал он наконец.
Господи! вырвался ужасный вопль из груди ее. Бессильно упала она на постель, лицом в подушки. Но через мгновение быстро приподнялась, быстро придвинулась к нему, схватила его за обе руки и, крепко сжимая их, как в тисках, тонкими своими пальцами, стала опять неподвижно, точно приклеившись, смотреть в его лицо. Этим последним, отчаянным взглядом она хотела высмотреть и уловить хоть какую-нибудь последнюю себе надежду. Но надежды не было; сомнения не оставалось никакого; всё было так
! Даже потом, впоследствии, когда она припоминала эту минуту, ей становилось и странно, и чудно: почему именно она так сразу
увидела тогда, что нет уже никаких сомнений? Ведь не могла же она сказать, например, что она что-нибудь в этом роде предчувствовала? А между тем, теперь, только что он сказал ей это, ей вдруг и показалось, что и действительно она как будто это
самое и предчувствовала.
Полно, Соня, довольно! Не мучь меня! страдальчески попросил он.
Он совсем, совсем не так думал открыть ей, но вышло так
.
Как бы себя не помня, она вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него, почти прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего, перед ним на колени.
Что вы, что вы это над собой сделали! отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками.
Раскольников отшатнулся и с грустною улыбкой посмотрел на нее:
Странная какая ты, Соня, обнимаешь и целуешь, когда я тебе сказал про это
. Себя ты не помнишь.
Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике.
Давно уже незнакомое ему чувство волной хлынуло в его душу и разом размягчило ее. Он не сопротивлялся ему: две слезы выкатились из его глаз и повисли на ресницах.
Так не оставишь меня, Соня? говорил он, чуть не с надеждой смотря на нее.
Нет, нет; никогда и нигде! вскрикнула Соня, за тобой пойду, всюду пойду! О господи!.. Ох, я несчастная!.. И зачем, зачем я тебя прежде не знала! Зачем ты прежде не приходил? О господи!
Вот и пришел.
Теперь-то! О, что теперь делать!.. Вместе, вместе! повторяла она как бы в забытьи и вновь обнимала его, в каторгу с тобой вместе пойду! Его как бы вдруг передернуло, прежняя, ненавистная и почти надменная улыбка выдавилась на губах его.
Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти, сказал он.
Соня быстро на него посмотрела.
После первого, страстного и мучительного сочувствия к несчастному опять страшная идея убийства поразила ее. В переменившемся тоне его слов ей вдруг послышался убийца. Она с изумлением глядела на него. Ей ничего еще не было известно, ни зачем, ни как, ни для чего это было. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее сознании. И опять она не поверила: «Он, он убийца! Да разве это возможно?»
Да что это! Да где это я стою! проговорила она в глубоком недоумении, как будто еще не придя в себя, да как вы, вы, такой...
могли на это решиться?.. Да что это!
Ну да, чтоб ограбить. Перестань, Соня! как-то устало и даже как бы с досадой ответил он.
Соня стояла как бы ошеломленная, но вдруг вскричала:
Ты был голоден! ты... чтобы матери помочь? Да?
Нет, Соня, нет, бормотал он, отвернувшись и свесив голову, не был я так голоден... я действительно хотел помочь матери, но... и это не совсем верно... не мучь меня, Соня!
Соня всплеснула руками.
Да неужель, неужель это всё взаправду! Господи, да какая же это правда! Кто же этому может поверить?.. И как же, как же вы сами последнее отдаете, а убили, чтоб ограбить! А!.. вскрикнула она вдруг, те деньги, что Катерине Ивановне отдали... те деньги... Господи, да неужели ж и те деньги...
Нет, Соня, торопливо прервал он, эти деньги были не те, успокойся! Эти деньги мне мать прислала, через одного купца, и получил я их больной, в тот же день, как и отдал... Разумихин видел... он же и получал за меня... эти деньги мои, мои собственные, настоящие мои.
Соня слушала его в недоумении и из всех сил старалась что-то сообразить.
А те
деньги... я, впрочем, даже и не знаю, были ли там и деньги-то, прибавил он тихо и как бы в раздумье, я снял у ней тогда кошелек с шеи, замшевый... полный, тугой такой кошелек... да я не посмотрел в него; не успел, должно быть... Ну а вещи, какие-то всё запонки да цепочки, я все эти вещи и кошелек на чужом одном дворе, на В м проспекте под камень схоронил, на другое же утро. Всё там и теперь лежит.
Соня из всех сил слушала.
Ну, так зачем же... как же вы сказали: чтоб ограбить, а сами ничего не взяли? быстро спросила она, хватаясь за соломинку.
Не знаю... я еще не решил возьму или не возьму эти деньги, промолвил он, опять как бы в раздумье, и вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся. Эх, какую я глупость сейчас сморозил, а?
У Сони промелькнула было мысль: «Не сумасшедший ли?» Но тотчас же она ее оставила: нет, тут другое. Ничего, ничего она тут не понимала!
Знаешь, Соня, сказал он вдруг с каким-то вдохновением, знаешь, что я тебе скажу: если б только я зарезал из того, что голоден был, продолжал он, упирая в каждое слово и загадочно, но искренно смотря на нее, то я бы теперь... счастлив
был! Знай ты это!
И что тебе, что тебе в том, вскричал он через мгновение с каким-то даже отчаянием, ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мной? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!
Соня опять хотела было что-то сказать, но промолчала.
Потому я и звал с собою тебя вчера, что одна ты у меня и осталась.
Куда звал? робко спросила Соня.
Не воровать и не убивать, не беспокойся, не за этим, усмехнулся он едко, мы люди розные... И знаешь, Соня, я ведь только теперь, только сейчас понял: куда
тебя звал вчера? А вчера, когда звал, я и сам не понимал куда. За одним и звал, за одним приходил: не оставить меня. Не оставишь, Соня?
Она стиснула ему руку.
И зачем, зачем я ей сказал, зачем я ей открыл! в отчаянии воскликнул он через минуту, с бесконечным мучением смотря на нее, вот ты ждешь от меня объяснений, Соня, сидишь и ждешь, я это вижу; а что я скажу тебе? Ничего ведь ты не поймешь в этом, а только исстрадаешься вся... из-за меня! Ну вот, ты плачешь и опять меня обнимаешь, ну за что ты меня обнимаешь? За то, что я сам не вынес и на другого пришел свалить: «страдай и ты, мне легче будет!» И можешь ты любить такого подлеца?
Да разве ты тоже не мучаешься? вскричала Соня.
Опять то же чувство волной хлынуло в его душу и опять на миг размягчило ее.
Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить. Я потому и пришел, что зол. Есть такие, которые не пришли бы. А я трус и... подлец! Но... пусть! всё это не то... Говорить теперь надо, а я начать не умею...
Он остановился и задумался.
Э-эх, люди мы розные! вскричал он опять, не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прощу себе этого!
Нет, нет, это хорошо, что пришел! восклицала Соня, это лучше, чтоб я знала! Гораздо лучше! Он с болью посмотрел на нее.
А что и в самом деле! сказал он, как бы надумавшись, ведь это ж так и было! Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Ну, понятно теперь?
Н-нет, наивно и робко прошептала Соня, только... говори, говори! Я пойму, я про себя
всё пойму! упрашивала она его.
Поймешь? Ну, хорошо, посмотрим!
Он замолчал и долго обдумывал.
Штука в том: я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо всех этих красивых и монументальных вещей просто-запросто одна какая-нибудь смешная старушонка, легистраторша, которую еще вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли бы оттого, что это уж слишком не монументально и... и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? И уж если бы только не было ему другой дороги, то задушил бы так, что и пикнуть бы не дал, без всякой задумчивости!.. Ну и я... вышел из задумчивости... задушил... по примеру авторитета... И это точь-в-точь так и было! Тебе смешно? Да, Соня, тут всего смешнее то, что, может, именно оно так и было...
Соне вовсе не было смешно.
Вы лучше говорите мне прямо... без примеров, еще робче и чуть слышно попросила она.
Он поворотился к ней, грустно посмотрел на нее и взял ее за руки.
Ты опять права, Соня. Это всё ведь вздор, почти одна болтовня! Видишь: ты ведь знаешь, что у матери моей почти ничего нет. Сестра получила воспитание, случайно, и осуждена таскаться в гувернантках. Все их надежды были на одного меня. Я учился, но содержать себя в университете не мог и на время принужден был выйти. Если бы даже и так тянулось, то лет через десять, через двенадцать (если б обернулись хорошо обстоятельства) я все-таки мог надеяться стать каким-нибудь учителем или чиновником, с тысячью рублями жалованья... (Он говорил как будто заученное). А к тому времени мать высохла бы от забот и от горя, и мне все-таки не удалось бы успокоить ее, а сестра... ну, с сестрой могло бы еще и хуже случиться!.. Да и что за охота всю жизнь мимо всего проходить и от всего отвертываться, про мать забыть, а сестрину обиду, например, почтительно перенесть? Для чего? Для того ль, чтоб, их схоронив, новых нажить жену да детей, и тоже потом без гроша и без куска оставить? Ну... ну, вот я и решил, завладев старухиными деньгами, употребить их на мои первые годы, не мучая мать, на обеспечение себя в университете, на первые шаги после университета, и сделать всё это широко, радикально, так чтоб уж совершенно всю новую карьеру устроить и на новую, независимую дорогу стать... Ну... ну, вот и всё... Ну, разумеется, что я убил старуху, это я худо сделал... ну, и довольно!
В каком-то бессилии дотащился он до конца рассказа и поник головой.
Ох, это не то, не то, в тоске восклицала Соня, и разве можно так... нет, это не так, не так!
Сама видишь, что не так!.. А я ведь искренно рассказал, правду!
Да какая ж это правда! О господи!
Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную.
Это человек-то вошь!
Да ведь и я знаю, что не вошь, ответил он, странно смотря на нее. А впрочем, я вру, Соня, прибавил он, давно уже вру... Это всё не то; ты справедливо говоришь. Совсем, совсем, совсем тут другие причины!... Я давно ни с кем не говорил, Соня... Голова у меня теперь очень болит.
Глаза его горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. Соня поняла, как он мучается. У ней тоже голова начинала кружиться. И странно он так говорил: как будто и понятно что-то, но... «но как же! Как же! О господи!» И она ломала руки в отчаянии.
Нет, Соня, это не то! начал он опять, вдруг поднимая голову, как будто внезапный поворот мыслей поразил и вновь возбудил его, это не то! А лучше.. предположи (да! этак действительно лучше!), предположи, что я самолюбив, завистлив, зол, мерзок, мстителен, ну... и, пожалуй, еще наклонен к сумасшествию. (Уж пусть всё зараз! Про сумасшествие-то говорили прежде, я заметил!) Я вот тебе сказал давеча, что в университете себя содержать не мог. А знаешь ли ты, что я, может, и мог? Мать прислала бы, чтобы внести, что надо, а на сапоги, платье и на хлеб я бы и сам заработал; наверно! Уроки выходили; по полтиннику предлагали. Работает же Разумихин! Да я озлился и не захотел. Именно озлился
(это слово хорошее!). Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела... А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят! О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел. Нарочно не хотел! По суткам не выходил, и работать не хотел, и даже есть не хотел, всё лежал. Принесет Настасья поем, не принесет так и день пройдет; нарочно со зла не спрашивал! Ночью огня нет, лежу в темноте, а на свечи не хочу заработать. Надо было учиться, я книги распродал; а на столе у меня, на записках да на тетрадях, на палец и теперь пыли лежит. Я лучше любил лежать и думать. И всё думал... И всё такие у меня были сны, странные, разные сны, нечего говорить какие! Но только тогда начало мне тоже мерещиться, что... Нет, это не так! Я опять не так рассказываю! Видишь, я тогда всё себя спрашивал: зачем я так глуп, что если другие глупы и коли я знаю уж наверно, что они глупы, то сам не хочу быть умнее? Потом я узнал, Соня, что если ждать, пока все станут умными, то слишком уж долго будет... Потом я еще узнал, что никогда этого и не будет, что не переменятся люди, и не переделать их никому, и труда не стоит тратить! Да, это так! Это их закон... Закон, Соня! Это так!.. И я теперь знаю, Соня, что кто крепок и силен умом и духом, тот над ними и властелин! Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! Только слепой не разглядит!
Раскольников, говоря это, хоть и смотрел на Соню, но уж не заботился более: поймет она или нет. Лихорадка вполне охватила его. Он был в каком-то мрачном восторге. (Действительно, он слишком долго ни с кем не говорил!) Соня поняла, что этот мрачный катехизис стал его верой и законом.
Я догадался тогда, Соня, продолжал он восторженно, что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно только, одно: стоит только посметь! У меня тогда одна мысль выдумалась, в первый раз в жизни, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал! Никто! Мне вдруг ясно, как солнце, представилось, что как же это ни единый до сих пор не посмел и не смеет, проходя мимо всей этой нелепости, взять просто-запросто всё за хвост и стряхнуть к черту! Я... я захотел осмелиться
и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!
О, молчите, молчите! вскрикнула Соня, всплеснув руками. От бога вы отошли, и вас бог поразил, дьяволу предал!..
Кстати, Соня, это когда я в темноте-то лежал и мне всё представлялось, это ведь дьявол смущал меня? а?
Молчите! Не смейтесь, богохульник, ничего, ничего-то вы не понимаете! О господи! Ничего-то, ничего-то он не поймет!
Молчи, Соня, я совсем не смеюсь, я ведь и сам знаю, что меня черт тащил. Молчи, Соня, молчи! повторил он мрачно и настойчиво. Я всё знаю. Всё это я уже передумал и перешептал себе, когда лежал тогда в темноте... Всё это я сам с собой переспорил, до последней малейшей черты, и всё знаю, всё! И так надоела, так надоела мне тогда вся эта болтовня! Я всё хотел забыть и вновь начать, Соня, и перестать болтать! И неужели ты думаешь, что я как дурак пошел, очертя голову? Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть иметь? то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а
вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для того, чтобы матери помочь, я убил вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, всё равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Я это всё теперь знаю... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право
имею...
Убивать? Убивать-то право имеете? всплеснула руками Соня.
Э-эх, Соня! вскрикнул он раздражительно, хотел было что-то ей возразить, но презрительно замолчал. Не прерывай меня, Соня! Я хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел теперь! Принимай гостя! Если б я не вошь был, то пришел ли бы я к тебе? Слушай: когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать
сходил... Так и знай!
И убили! Убили!
Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве так идут убивать, как я тогда шел! Я тебе когда-нибудь расскажу, как я шел... Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухлопал себя, навеки!.. А старушонку эту черт убил, а не я... Довольно, довольно, Соня, довольно! Оставь меня, вскричал он вдруг в судорожной тоске, оставь меня!
Он облокотился на колена и, как в клещах, стиснул себе ладонями голову.
Экое страдание! вырвался мучительный вопль у Сони.
Ну, что теперь делать, говори! спросил он, вдруг подняв голову и с безобразно искаженным от отчаяния лицом смотря на нее.
Что делать! воскликнула она, вдруг вскочив с места, и глаза ее, доселе полные слез, вдруг засверкали. Встань! (Она схватила его за плечо; он приподнялся, смотря на нее почти в изумлении). Поди сейчас, сию же минуту, стань на перекрестке, поклонись, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, а потом поклонись всему свету, на все четыре стороны, и скажи всем, вслух: «Я убил!» Тогда бог опять тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь? спрашивала она его, вся дрожа, точно в припадке, схватив его за обе руки, крепко стиснув их в своих руках и смотря на него огневым взглядом.
Он изумился и был даже поражен ее внезапным восторгом.
Это ты про каторгу, что ли, Соня? Донести, что ль, на себя надо? спросил он мрачно.
Страдание принять и искупить себя им, вот что надо.
Нет! Не пойду я к ним, Соня.
А жить-то, жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? восклицала Соня. Разве это теперь возможно? Ну как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними-то что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О господи! вскрикнула она, ведь он уже это всё знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!
Не будь ребенком, Соня, тихо проговорил он. В чем я виноват перед ними? Зачем пойду? Что им скажу? Всё это один только призрак... Они сами миллионами людей изводят, да еще за добродетель почитают. Плуты и подлецы они, Соня!.. Не пойду. И что я скажу: что убил, а денег взять не посмел, под камень спрятал? прибавил он с едкою усмешкой. Так ведь они же надо мной сами смеяться будут, скажут: дурак, что не взял. Трус и дурак! Ничего, ничего не поймут они, Соня, и недостойны понять. Зачем я пойду? Не пойду. Не будь ребенком, Соня...
Замучаешься, замучаешься, повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки.
Я, может, на себя еще
наклепал, мрачно заметил он, как бы в задумчивости, может, я еще
человек, а не вошь и поторопился себя осудить... Я еще
поборюсь.
Надменная усмешка выдавливалась на губах его.
Этакую-то муку нести! Да ведь целую жизнь, целую жизнь!..
Привыкну... проговорил он угрюмо и вдумчиво. Слушай, начал он через минуту, полно плакать, пора о деле: я пришел тебе сказать, что меня теперь ищут, ловят...
Ах! вскрикнула Соня испуганно.
Ну, что же ты вскрикнула! Сама желаешь, чтоб я в каторгу пошел, а теперь испугалась? Только вот что: я им не дамся. Я еще с ними поборюсь, и ничего не сделают. Нет у них настоящих улик. Вчера я был в большой опасности и думал, что уж погиб; сегодня же дело поправилось. Все улики их о двух концах, то есть их обвинения я в свою же пользу могу обратить, понимаешь? и обращу; потому я теперь научился... Но в острог меня посадят наверно. Если бы не один случай, то, может, и сегодня бы посадили, наверно, даже, может, еще
и посадят сегодня... Только это ничего, Соня: посижу, да и выпустят... потому нет у них ни одного настоящего доказательства и не будет, слово даю. А с тем, что у них есть, нельзя упечь человека. Ну, довольно... Я только, чтобы ты знала... С сестрой и с матерью я постараюсь как-нибудь так сделать, чтоб их разуверить и не испугать... Сестра теперь, впрочем, кажется, обеспечена... стало быть, и мать... Ну, вот и всё. Будь, впрочем, осторожна. Будешь ко мне в острог ходить, когда я буду сидеть?
О, буду! Буду!
Оба сидели рядом, грустные и убитые, как бы после бури выброшенные на пустой берег одни. Он смотрел на Соню и чувствовал, как много на нем было ее любви, и странно, ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят. Да, это было странное и ужасное ощущение! Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг, теперь, когда всё сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал и сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде.
Соня, сказал он, уж лучше не ходи ко мне, когда я буду в остроге сидеть.
Соня не ответила, она плакала. Прошло несколько минут.
Есть на тебе крест? вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг вспомнила.
Он сначала не понял вопроса.
Нет, ведь нет? На, возьми вот этот, кипарисный. У меня другой остался, медный, Лизаветин. Мы с Лизаветой крестами поменялись, она мне свой крест, а я ей свой образок дала. Я теперь Лизаветин стану носить, а этот тебе. Возьми... ведь мой! Ведь мой! упрашивала она. Вместе ведь страдать пойдем, вместе и крест понесем!..
Дай! сказал Раскольников. Ему не хотелось ее огорчить. Но он тотчас же отдернул протянутую за крестом руку.
Не теперь, Соня. Лучше потом, прибавил он, чтоб ее успокоить.
Да, да, лучше, лучше, подхватила она с увлечением, как пойдешь на страдание, тогда и наденешь. Придешь ко мне, я надену на тебя, помолимся и пойдем.
В это мгновение кто-то три раза стукнул в дверь.
Софья Семеновна, можно к вам? послышался чей-то очень знакомый вежливый голос.
Соня бросилась к дверям в испуге. Белокурая физиономия господина Лебезятникова заглянула в комнату.
Преступление совершено. Но если Раскольников в припадке может убить, то красть он не в состоянии. Он присваивает себе только две ничего не стоящие вещицы и с большими затруднениями спасается оттого, чтобы не быть застигнутым на месте преступления. Теперь наступает период в его жизни, когда он может только размышлять над своим преступлением.
Он уничтожает все его внешние следы, но вечно занят мыслью, как бы скрыть его, чем все больше и больше выдает себя своим преследователям. Но это еще не главное - внешние открытия не сокрушают его; что его окончательно губит, это внутреннее открытие, которое он делает: все более и более возрастающая уверенность, что он не принадлежит к числу тех избранных натур, которым все разрешается. После совершения преступления он никак не может вновь подняться на ту высоту, с какой он раньше смотрел на него: «Наполеон, пирамиды, Ватерлоо, - и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью...
Полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к «старушонке!» Эх, дрянь!». Он не раскаивается в умерщвлении старухи, продолжая считать ее жизнь бесполезной, а смерть безразличным, пожалуй, даже полезным делом. Старуха была и продолжает казаться ему чем-то побочным; убивая ее, он ведь хотел только уничтожить предрассудок, убить не человека, а ложный взгляд и переступить через пропасть, отделяющую обыкновенных людей, погрязших в будничных понятиях, от сонма избранных. Он убил предрассудок, но продолжал оставаться по ту сторону пропасти.
Он безгранично несчастен, несчастнее, чем когда-либо раньше. Он не сделал ничего дурного. Он хотел только не оставить без помощи своей голодной матери, имея рубль в кармане. И как добросовестно он поступил! Он, прежде всего, проверил свои силы самым тщательным испытанием себя, убедившим его в том, что он не переступит за известные границы для удовлетворения своих чувственных потребностей, а будет иметь всегда в виду только свою великую цель; кроме того, среди всей бесполезной «вши» он выбрал самую бесполезную, и, наконец, решил, убивая эту женщину, взять лишь столько, сколько оказывалось необходимым для его ближайших целей.
А между тем, не старуху жалкую убил он, а самого себя, свое собственное «я». Его преступление превзошло его самого, оно сделало Раскольникова совершенно одиноким, отбросило его в глубину его собственного «я». Тайна терзает его до безумия, и мучение при мысли, что он такая же «вошь», как и все остальные, изводит его.
Едва успел он совершить убийство, как почувствовал себя одиноким, чуждым всем, осужденным на вечное молчание. Ему кажется, что он больше никогда не осмелится разговаривать с другими людьми. Но вскоре им овладевает безумная потребность открыть свою тайну, рассказать о ней другим. Награбленное его не интересует, у него нет и в мыслях воспользоваться им; он прячет его под камнем на месте постройки. Раскольников сам не понимает, что с ним происходит, но ему кажется, что он точно ударом топора отсечен от своего прошлого. Наступает минута, когда он готов броситься в воду, чтобы положить конец своим мучениям. На окружающих Раскольников производит впечатление сумасшедшего.
Но вот Раскольников встречает воплощение человеческого горя в его самой худшей форме: горького пьяницу, чахоточную вдову с детьми на руках без куска хлеба, благородную молодую девушку Соню, которая должна была унизить себя до проституции, чтобы добывать пищу своим маленьким братьям и сестрам - и потребность выказать великодушие, прийти на помощь ближним на некоторое время возвращает ему веру в жизнь. Однако за кратковременным подъемом духа следуют новые мучения. Его угнетает мысль, что другие, может быть, знают о его преступлении, а он играет перед ними бесполезную комедию, когда делает вид, что все это не имеет к нему никакого отношения.
И действительно, один человек догадался обо всем и насквозь видит его: это гениальный юрист, следователь Порфирий Петрович. Но Раскольникова не арестовывают, не допрашивают, нет; если он впоследствии раскрывает свои уста и обвиняет себя, то это происходит исключительно в силу внутреннего душевного побуждения. Еще задолго до того, как происходит взрыв, ему кажется, что приближается момент, когда он должен открыть тайну, и он сам сравнивает чувство, испытываемое им при приближении этого момента, с тем чувством, которое проснулось в нем, когда ему показалось, что пробил час убить старуху. Но это чувство постоянно переплетается у него с пылкой ненавистью к окружающему миру; он питает убийственную ненависть к тем, кто, как он думает или боится, знают его тайну.
В конце концов он с ужасом осознает, что даже о матери и сестре, которых прежде так любил, временами он думает теперь с чувством ненависти.
Но эта ненависть и это мучение порождены любовью. Если бы он не любил так сильно, ничего не случилось бы. Если бы он был сухим, черствым человеком, если бы он не был смел и великодушен, он никогда не сделался бы убийцей. Все более и более чувствует он в это время влечение к Соне, которая стала проституткой из любви к своим маленьким братьям и сестрам. Раскольникова с ней сблизило сострадание, восхищение ее благородством и чистотой, потому что ни единая капля порока еще не проникла в ее сердце. Он выражает свое уважение той, которую презирает весь мир. Она также преступила границы, она также наложила руки на человеческую жизнь, на свою собственную, пожертвовала со¬бой и пожертвовала, по мнению Раскольникова, бесполезно; но по величию своей души она стоить высоко над ним. И мало-помалу Соня обращается в его совесть и оказывается в конце концов сильнее его. Раскольников не в состоянии противиться этой женщине, столь сильной в своем унижении и смирении, и роман оканчивается тем, что Раскольников идет в полицейский участок и доносит на себя: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором, и ограбил».
В эпилоге, происходящем в Сибири, Достоевский заставляет надменный и разбитый жизнью характер Раскольникова смягчиться и возвращает ему бодрость духа благодаря преданной, выносливой любви Сони.
«ТВАРЬ ЛИ Я ДРОЖАЩАЯ ИЛИ ПРАВО ИМЕЮ … » (ПО РОМАНУ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»)
1. Вступление.
Родион Раскольников — главный герой романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание».
2. Основная часть.
2.1 Нравственные искания Раскольникова.
2.2 Идея Раскольникова.
2.3 Сон Раскольникова.
2.4 Раскольников и Соня Мармеладова.
3. Заключение.
Возрождение Раскольникова. Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку!
Родион Романович Раскольников, главный герой книги Фёдора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», появляется перед читателем на первых страницах произведения. Внешне это самый обычный молодой человек, бедный, как и все обитатели Петербурга Достоевского, одетый в лохмотья, бывший студент, доведённый нищетой до отчаянного положения. Но именно в душе этого человека разворачивается сложнейший нравственный конфликт не только романа, но и всего человечества — имеет ли человек право переступить законы совести во имя высшей цели или нет. Читатель застаёт главного героя, поглощённого своей бесчеловечной идеей, которая разрешает «кровь по совести». По мнению Раскольникова, все люди делятся на две категории — «твари дрожащие» и «сильные мира сего». Безропотные и пассивные следуют моральным нормам и общепринятому порядку. Великие личности, «творцы истории», нарушают установленные законы. Их не останавливают жертвы, кровь, насилие. Ради высшей цели они готовы переступить любые человеческие принципы. Пассивных и слабых большинство, и только избранные наделены особой силой. Они-то и руководят остальной людской массой, создают историю. Раскольников задаётся вопросом, к какой категории людей принадлежит он: «Вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу? Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею?« Убийство старухи-процентщицы Алёны Ивановны становится для героя своеобразной проверкой и даёт ответ на мучивший его вопрос.
Раскольников надеется оказаться тем, кому «всё позволено». В разговоре с Соней Мармеладовой он признаётся, что «для себя убил, для себя одного». Однако Раскольников оказывается не тем «сверхчеловеком», каким хотел казаться. На деле оказывается, что всё идёт совсем не так, как ожидал герой. Сам Раскольников чувствует ненормальность происходящего. «О Боже! Как всё это отвратительно — восклицает он, когда выходит от старухи-процентщицы. Эксперимент Раскольникова над собой не удался. Герой способен сопереживать, сочувствовать чужому горю, помогать несчастным. Так, он принимает участие в судьбе семейства Мармеладова, отдавая им последние копейки. Герой словно разрывается между своей истинной сутью и тем, каким он хочет казаться. Друг Раскольникова Разумихин говорит о нём, что У героя «два противоположных характера поочерёдно сменяются», Сон об избиении лошади, вернувший героя в далекое детство, показывает его истинную суть. Искренняя, честная детская натура Раскольникова протестует против жестокости и насилия. Ребёнок в ужасе от страшных картин мучения несчастной лошади. Он готов бороться с несправедливостью и злом, бросаясь на мужика, забившего лошадь. Образ героя- ребенка показывает лучшие черты Раскольникова. Решающую роль в «воскрешении» личности героя играет Соня Мармеладова. Сначала Раскольников видит в ней такого же человека, как и он сам, пере ступившего через общепринятые законы. Однако героиней движет любовь, а не гордыня.
Признание Раскольникова в убийстве не было продиктовано искренним раскаянием. И только оказавшись на каторге, осознав своё единение с другими людьми, герой обретает веру и прощение. Самопожертвование, любовь к ближним и вера спасают героя. Поверив Соне и приняв её убеждения, Раскольников встаёт на путь возрождения.